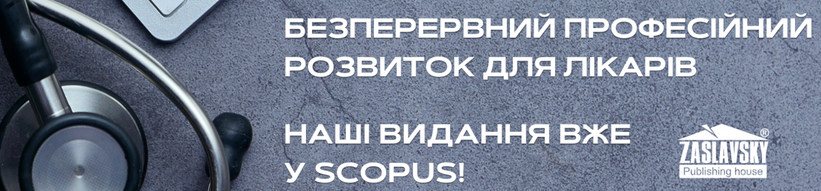Газета «Новости медицины и фармации» 22 (302) 2009
Вернуться к номеру
Истоки. Рассказ
Авторы: Э.М. Ходош, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, заведующий 1-м пульмонологическим отделением городской клинической больницы № 13, академик ИА Украины, председатель Харьковского респираторного общества, городской внештатный пульмонолог
Версия для печати
__________________________________2009/tv_1_1.jpg) Любые времена обильны мемуарами. Это потому, что каждый человек проживает извилистую и интересную жизнь и ему есть что рассказать. Между тем интерес к истории жизни тем напряженнее, чем она драматичнее, чем богаче теми или иными событиями и поворотами, чем значительнее попадаются люди, влияющие на формирование того или иного человека. Многое, конечно, зависит от того, в чем видеть характерную особенность человека. Особенность нашего нового доктора заключалась в его профессиональной целеустремленности. Он много времени проводил в больнице, не спеша и тщательно опрашивал и осматривал больных, с книжкой в руках описывал их состояние, постоянно читал. Нет никакого сомнения, что он был одержим своей работой. По-видимому, доктор многого хотел и не боялся надеяться.
Любые времена обильны мемуарами. Это потому, что каждый человек проживает извилистую и интересную жизнь и ему есть что рассказать. Между тем интерес к истории жизни тем напряженнее, чем она драматичнее, чем богаче теми или иными событиями и поворотами, чем значительнее попадаются люди, влияющие на формирование того или иного человека. Многое, конечно, зависит от того, в чем видеть характерную особенность человека. Особенность нашего нового доктора заключалась в его профессиональной целеустремленности. Он много времени проводил в больнице, не спеша и тщательно опрашивал и осматривал больных, с книжкой в руках описывал их состояние, постоянно читал. Нет никакого сомнения, что он был одержим своей работой. По-видимому, доктор многого хотел и не боялся надеяться.
Доктора звали Эрнест Михайлович. Трудно сказать, правы ли те, кто видит судьбу человека в его имени, но в данном случае имя Эрнест, которое означает «искренний, правдивый», полностью соответствовало характеру, моральным и профессиональным качествам его носителя. Не исключено, что родители, записывая новорожденного в загсе, предчувствовали, каким непохожим на других у них вырастет сын.
Оказавшись не по своей воле в сельской больнице, доктор Эрнест сохранял строгость и изящность в одежде, был аккуратен во всем. Живя на территории больницы, на работу никогда не опаздывал. Он быстро отпустил бороду и усы, что делало его солиднее и, возможно, внушало к нему доверие. «Зачем больным знать, что мне двадцать шесть лет и я только месяц тому окончил интернатуру?» — думал доктор Эрнест. И, вероятно, он был прав. Но мы не исключаем, что в этом новом имидже существовала и традиционная дань земству. Наш доктор был человеком с романтикой.
Эрнест Михайлович, или, как мы его называли, Михалыч, жил на территории больницы в комнатке, в которой помещались металлическая кровать, письменный стол, один стул и вертикальная деревянная вешалка с рогатинами. Комнатка отапливалась печкой снаружи. Все сотрудники знали о любви доктора к чтению медицинской литературы. Он привез с собой книг и журналов больше, чем их было в библиотеке, почти никуда не ходил по вечерам, а только занимался. По-видимому, чтение открывало в нем новые стороны жизни и новые профессиональные дали.
— Будущий ученый и профессор, — утверждала санитарка Семеновна. — До трех часов ночи свет палит и все шуршит и шуршит. Моей бы младшей такого парня, — вздыхает она. — Так нет же — у самой ветер и танцы в голове, да и доктор не проявляет никакого внимания.
Никто и не догадывался, что доктор любит и умеет танцевать и что ему сразу понравилась веселая черноглазая дочь Семеновны. Иногда, когда он бывал в гостях у Семеновны и ее младшенькая готовила на кухне и пела, доктор Эрнест краснел, от всего отвлекался и слушал.
Но он старался подавить в себе ненужные, вредные для дела желания и мысли. Прежде всего необходимо стать хорошим специалистом. Это главная цель жизни. А остальное успеется. «Знания и идеи не падают с неба», — часто говорил доктор Эрнест. — За них ежедневно и пожизненно необходимо бороться».
Наш доктор был женат, но родители жены не пустили свою дочь с ним по распределению в глушь, в тьмутаракань. «Мы не доверяем тебе свою дочь!» — заявили они. А та безмолвно согласилась. Примерно через год от начала работы в течение нескольких дней доктора Эрнеста навещала беременная жена. И, по-видимому, убедилась, что ее родители оказались правы. Как можно предпочесть сухую солому, если рядом мягкая и сочная трава? Впоследствии жизнь развела их, не сохранив дружбы, но имелась связь, так как у них родился сын, которого Эрнест Михайлович боготворил.
Скорее всего, жена доктора не понимала своего мужа и в том, что работа для молодого специалиста означала профессиональный долг, зарплату и независимость. Ведь у доктора Эрнеста уже не было родителей, и он мог надеяться только на свой труд. Для него создавалась исключительно «счастливая» обстановка: «экономика» толкала его туда же, куда влекло и профессиональное чувство.
К тому же он что-то увидел и понял в отечественной деревне с ее бездорожьем — свою необходимость для больных людей и самостоятельность. Для него с получением врачебного диплома окончился период абстрактных идей и теорий. Теперь он мог увидеть и прочувствовать, как упомянутые идеи и теории обретают реальность, превращаясь в чаяния живых человеческих существ, полных надежд на здоровье, полноценную жизнь и лучшее будущее.
Итак, Эрнест Михайлович работал «земским» врачом в стационаре и амбулатории, ездил на вызовы в машине, в телеге и в санях; контролировал работу фельдшерско-акушерских пунктов, вскрывал панариции, фурункулы и паратонзиллярные абсцессы, обезболивал травмы различной локализации, шил мелкие раны, лечил взрослых и детей от воспаления легких, ангины, ревматизма, гипертонической болезни, радикулита и др., вправлял вывихи, тампонировал нос, удалял корнцангом инородные тела из миндалин, проверял периферическое зрение и санитарное состояние колодцев, делал аборты, различные перевязки, плевральные пункции и парацентезы, проводил в школе и в полях профилактические осмотры и многое другое.
Этой работе не было предела, и в ней не оказалось ничего романтического, она растворялась в потоке забот и профессиональной неудовлетворенности. Не у кого было учиться. Не было рентгеновского аппарата, электрокардиографа, достаточных лабораторных методов обследования, существовала почти постоянно поломанная машина скорой помощи и нарушенный отдых, так как обращаемость больных была круглосуточной. То есть не могло быть такого, чтобы воскресное или неурочное время стояло выше требований работы.
Как мы уже поняли, для Эрнеста Михайловича основная линия жизни заключалась в постоянном профессиональном самообразовании. Он постоянно пытался ответить на клинические вопросы с книгой в руках. Собственно, советоваться больше было не с кем.
А учителя необходимы еще многие годы после окончания медицинского института. Получение диплома — это лишь легкая царапина во врачебном становлении. Профессионализм не выходит из «институтской лаборатории» во всеоружии. В формировании врачебного профессионализма необходима школа больших клинических событий. Доктор Эрнест не хотел быть зрителем, его цель — это активное участие в профессиональном становлении. Внутренне он стремился к клинике с ее традициями, анализом деятельности и преемственностью.
Наверно поэтому Эрнест Михайлович подал заявление главному врачу с просьбой направить его на курсы повышения квалификации. Да, он понимал, что работает в больнице недавно и просить о курсах преждевременно и неудобно. Но долг врача вынуждает его пойти на этот шаг. Как выяснилось, он плохо знает неотложную помощь. Дважды при удушье и болях в грудной клетке он растерялся и не сделал своевременно необходимых назначений, не принял организационных мер. Без твердых знаний он не имеет морального права лечить людей. Врач обязан объективно видеть клиническую картину, называть ее проявления принятыми терминами и понятиями, а также предвидеть логику ее дальнейшего развития.
Любому другому доктору главный врач Иван Родионович отказал бы не задумываясь. За окном март, еще холодно, больница переполнена больными, в районе возросли простудные заболевания и воспаления легких. Амбулаторный прием с аншлагом. Любому, но не Эрнесту Михайловичу. Наивно, смешно, но с ним ему непросто общаться. У подчиненного ум оказался острый, яркий и находчивый, оценки динамичны, шутки остроумны и сдержанны. По этим причинам речь немногословная, но яркая, логичная и убедительная. Профессиональный идеалист, так любит свое дело, так не считается с личным временем, не пьет «горькую», что ему даже стыдно, что он не такой. Главврач подчеркнул ногтем в заявлении слова «не имею морального права» и пригласил доктора Эрнеста.
— На два месяца отпустить вас сейчас не имею никакой возможности, — сдержанно сказал он. — Но на две недели можете поехать в областную больницу, где вы проходили интернатуру, и там попрактиковаться. Если вы согласны — я договорюсь по телефону.
Он тут же позвонил своему другу — главному врачу областной больницы и уладил появившуюся просьбу в пользу доктора Эрнеста.
Эрнест Михайлович встал и искренне поблагодарил.
— Когда я могу ехать?
— Хоть сегодня. Я сам буду вести ваших больных. Больше некому.
На следующий день без пятнадцати девять доктор Эрнест уже стучал в дверь, на которой была приколота картонная вывеска «Заведующий I терапевтическим отделением».
За маленьким столом сидел упитанный мужчина в очках лет пятидесяти пяти, с приятным, чисто выбритым лицом, несколько узковатыми глазами и крупным, выпуклым лбом. Он сидел без халата, разговаривал по телефону и курил папиросу. Рядом лежала открытая пачка «Казбека». Позади сидящего на стене была прибита дощечка с надписью «НЕ КУРИТЬ». Голос у него был громкий, резкий и хрипловатый, как у курильщика. Он посмотрел на Эрнеста Михайловича, кивнул ему и некоторое время продолжал разговор по телефону. Затем положил телефонную трубку на рычаг, погасил наполовину недокуренную папиросу и спросил:
— Вы доктор Эрнест? Меня предупреждали о вас. — Несколько минут он молчал и с плохо скрываемым любопытством рассматривал Эрнеста Михайловича, его белую рубашку, галстук, костюм с иголочки, пенсне, а затем не удержался и спросил: — Зачем вы так нарядились, коллега? Вы же пришли на работу, а не на торжественный раут.
— Это мне не помешает, — ответил Эрнест Михайлович.
— Ну что ж, тогда пройдемте в отделение, — предложил заведующий Виктор Михайлович. — И первая просьба, коллега, — не мешать, то есть больше смотреть, слушать, запоминать, записывать, вопросы задавать в удобное время. Вы должны понять, что деятельность практического врача в условиях современных крупных терапевтических отделений на 60 коек отличается неразвитой структурой и организацией, малочисленностью штата на одного больного, отсталой материально-технической базой лечебных учреждений. В итоге — это экстенсивный труд, далекий от кабинетной тиши. Поэтому в нашей работе много суматохи и бестолковщины. Тем не менее две основные задачи клинической медицины — диагностику и лечение — необходимо предельно точно выполнять.
— Понимаете ли, — продолжил Виктор Михайлович, — это математику можно сформироваться в кабинете, обложившись только книгами. А врач должен пройти через жерло взаимоотношений с больными и администрацией, научиться видеть результаты диагностики и лечения, уметь работать с литературой и иметь царя в голове. Должен вам заметить, — сказал он, внимательно смотря вдоль отделенческого коридора, по обеим сторонам которого стояли койки, на которых лежали больные, — не стремитесь опережать события, врачом сразу невозможно стать, если бы вы даже первоначально защитили кандидатскую или докторскую диссертации. Безусловно, истинная диссертация, то есть если она пройдена соискателем сквозь фундамент и анализ эксперимента, как-то положительно характеризует диссертанта, но такие диссертации в нашем медицинском отечестве сейчас не пишутся. Опять-таки нет денег для проведения эксперимента, да и экспериментальная заинтересованность сменилась компиляционными способностями или просто профессиональным обманом. По определенным историческим причинам в нашем отечестве исчезли исследователи. А ведь врач всегда должен быть исследователем, то ли в лаборатории, то ли у постели больного. Поэтому мой вам совет: мечтайте реально и не цените собаку по ее шерсти.
В это время Виктора Михайловича позвали в санитарный пропускник, в котором было уже много других врачей отделения и кафедры, а также врач скорой помощи, доставивший больного. Все с недоумением смотрели на каталку, на которой без сознания лежал мужчина лет тридцати. Причину отсутствия сознания никто не мог объяснить. Частота дыхания у больного равнялась 38 ударам в 1 минуту, артериальное давление — 100/65 мм рт.ст. Губы больного были синюшны, зрачки узкие, щеки розовой окраски; периферических отеков не было; опорно-двигательный аппарат без видимых изменений; над легкими — обычное везикулярное дыхание, ритм сердца правильный, тоны достаточной громкости. Живот мягкий, печень и селезенка не прощупывались. Рентгенограммы органов грудной клетки, электрокардиограммы, клинических анализов крови и мочи еще не было. Не были известны и прошлые болезни. Родственники и близкие не знали о случившемся, так как больной потерял сознание на улице, откуда и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Документов, подтверждающих личность пострадавшего, также не оказалось. К моменту прихода Виктора Михайловича больной уже был осмотрен некоторыми врачами, но диагноз не прояснился. Все смотрели на Виктора Михайловича с надеждой, так как он слыл специалистом и хорошим диагностом.
Виктор Михайлович подошел к каталке и достал из кармана халата короткую деревянную трубку, называемую стетоскопом. Да, у него была одна традиционная особенность, которую многие не понимали: он слушал больных, особенно сердце и сосуды, с помощью деревянного стетоскопа. Это занимало много времени. Во время этого действия он близко наклонялся к больному, закрывал глаза, чтобы мысленно не отвлекаться, и просил тишины. Злые языки говорили, что он засыпает над больным. После выслушивания Виктор Михайлович вдруг заявил:
— Я услышал мелодию митрального порока сердца с преобладанием стеноза (сужения). Если это так, то можно предположить, что больной страдает ревматизмом, митральным пороком с тромбоэндокардитом, который осложнился эмболией сосудов головного мозга с соответствующей клинической картиной мозговой комы. Необходимо немедленно ввести гепарин, фибринолизин, мочегонные и перевести больного в реанимационное отделение.
Больной был переведен в реанимационное отделение, где через два дня умер. На вскрытии диагноз Виктора Михайловича полностью подтвердился.
Доктор Эрнест ходил словно помешанный. Он стал тенью Виктора Михайловича. Он не пропускал ни одного его слова, ни одного обхода. С трепетом относился к молчанию своего учителя, который был скуп на слова, и, наконец, задал вопрос:
— Как же вам удалось так эффектно поставить правильный диагноз?
— Понимаете ли, коллега, в диагностике порой, как в боксе, один удар может решить исход поединка. Правда, этот удар является результатом длительной подготовки, размышлений, анализа, силы характера, конструктивности мышления и интуиции. Ведь никакая большая работа, а врачебная деятельность именно такой и является, немыслима без интуиции, то есть без того подсознательного чутья, которое благодаря теоретической и практической работе может обогатиться и развиться, но это чутье должно быть заложено природой в том или ином специалисте. Ни теоретическое образование, ни практическая рутина не могут заменить конструктивного глазомера, который позволяет разобраться в обстановке, оценить ее в целом и предвидеть дальнейший ход развития болезни. Но это понимание развития немыслимо без знаний по анатомии и гемодинамике сердца в норме и патологии, также необходимо владеть методом аускультации и пр., то есть научиться «видеть» больного и мыслить. Врач должен быть философом, а такой врач — это врач от бога. Такая способность приобретает особое значение в сложных и драматических клинических и организационных ситуациях.
Также хотел бы вам сказать, что диагнозы после первого осмотра ставятся редко, чаще диагноз — результат длительного наблюдения, углубленных опросов и обследований. Правда, сейчас мы вступаем в эпоху, когда длительное наблюдение укорачивается благодаря внедрению новых диагностических технологий, например ультразвукового исследования, компьютерной томографии и др. Но, поверьте мне, никакие технологии не смогут заменить знаний, конструктивности мышления, систематического труда и внешней дисциплины специалиста. Пройдет немало времени, прежде чем тот или иной врач научится «видеть» и «слышать», и еще больше необходимо времени, чтобы научиться правильно интерпретировать увиденное и услышанное.
Первые впечатления Эрнеста Михайловича в дальнейшем только углублялись. Виктор Михайлович много знал и способен был решать крупные клинические задачи. В своем мышлении, в своих словах, в своей теоретической подготовке и повседневном действии заведующий Малюков (такая фамилия была у Виктора Михайловича) совершенно не знал таких затрат духовной энергии, которые не служат непосредственно практической задаче. В этом и состояла особая красота его профессионального образа. И в этом доктор Эрнест убеждался тем тверже, чем больше расширялся круг его наблюдений. В непринужденных беседах за чашкой чая он пытался понять, какие разнородные элементы способна вмещать психика одного человека и как далеко от пассивного восприятия известных частей системы до ее профессионального претворения в целом, до перевоспитания себя в духе истинного врача.
Нет никакого сомнения, что доктор Эрнест был инициативен, крепок и вынослив и если чем и грешил, так это некоторой молодой самонадеянностью. Но он не страдал высокомерием. Он пытался рассчитывать свои силы и как можно больше впитывать те результаты врачебной деятельности, с которыми он столкнулся. В этот период начались похороны тех институтских иллюзий, которые ярким пламенем вспыхивают практически у всех молодых врачей. «Героический» студенческий период кончался. Начиналось понимание трудностей и ответственности, будней врача как практического деятеля.
В один из дней в отделение поступил больной, которого положили на кровать в коридоре, так как в палатах не было свободных коек. На кровати лежал старик — худой, с запавшим ртом, густо заросший седой колючей щетиной. На голове у него, непонятно почему, была надета красная бархатная турецкая феска, седые брови подбриты, на желтой безволосой груди маленький золотой крестик. Возле него сидела старуха и гладила его руки. Дышал больной поверхностно, глаза его были закрыты, кожные покровы влажны, артериальное давление равнялось 85/50 мм рт.ст. При вопросе: «Что вас беспокоит?» — больной медленно опустил свою дрожащую ладонь на грудную клетку.
— Наверное, инфаркт миокарда с болевым коллапсом, а возможно, развивается шок, — сказал Виктор Михайлович. — Немедленно снять электрокардиограмму, дать кислород, ввести анальгетики, спазмолитики, гепарин, кокарбоксилазу, поставить капельницы с мезатоном и поляризующей смесью.
Медицинская сестра немедленно принесла заправленные лекарствами шприцы и капельницы. Виктор Михайлович ловко, с первой попытки ввел в спавшиеся вены больного назначенные лекарства. Доктор Эрнест стоял рядом с Виктором Михайловичем и со страхом смотрел, как, не колеблясь, он без конца делает инъекции. Затем Виктор Михайлович ввел в вену нейролептическую смесь. Доктор Эрнест тут же признал, что никогда бы не решился вливать в вену столько сильнодействующих лекарств. «Не боится, ничего не боится», — с каким-то восхищением подумал он, вспоминая, с какой осторожностью их учили обращаться с этими препаратами. Он даже вытащил из кармана специально приготовленные карточки и авторучку и записал, что и в какой последовательности было введено.
Минут через десять больному стало лучше, артериальное давление повысилось до 105/60 мм рт.ст. Он медленно открыл маленькие выцветшие глаза. Сначала невидящим взглядом обвел вокруг, потом увидел жену, незнакомых людей в белых халатах, стоящих у кровати, остановил свой взгляд на Викторе Михайловиче.
— Какой блестящий типаж, — сказал он пересохшими губами, слабо улыбаясь. — Разрешите пожать вашу руку?
— Вам нельзя шевелиться, — строго сказал Виктор Михайлович и, не удержавшись, улыбнулся.
А старик продолжал:
— Нет, нет, рядом с таким восхитительным сократовским лицом уже ничего плохого не может случиться, — говорил он и нежно сжимал руку Виктора Михайловича. — Соня! — вдруг он позвал жену. — Побрей меня, я не могу лежать в таком виде.
Доктор Эрнест был потрясен этой силой жизни. Еще несколько минут назад человек стоял одной ногой в ином мире — и вот он уже мыслит, говорит комплименты, нежно пожимает руку и хочет немедленно побриться.
— Он у меня всегда такой, — с гордостью сказала старуха, вытирая слезы. И, наклонившись к мужу, поцеловала его в лоб.
«Вот оно, истинное торжество медицины, — немного высокопарно подумал Эрнест Михайлович. — Вот оно — то, ради чего не жаль пожертвовать в жизни всем!»
Нет, он не жалеет, что пытается целиком посвятить себя любимому делу. Человек не должен рассеиваться, тратить себя по пустякам. Только однолюбы могут чего-то добиться в жизни.
К этому времени больному сняли электрокардиограмму, на которой регистрировался инфаркт миокарда, поразивший заднюю стенку левого желудочка сердца.
— Вы займитесь другими делами, — осторожно предложил Эрнест Михайлович окружающим. — А я подежурю около больного.
Минут через сорок пальцы доктора Эрнеста, лежавшие на предплечье больного, почувствовали, как пульс резко ослаб, затем пропал, кожные покровы вновь покрылись липким холодным потом, больной потерял сознание, зрачки расширились. Виктор Михайлович начал проводить непрямой массаж сердца, маской Амбу осуществляли искусственное дыхание, внутривенно вновь стали вводить лекарства.
Тридцать минут врачи и медицинские сестры делали все, что только могли, но сознание не возвращалось, артериальное давление и пульс не определялись, зрачки оставались широкими, на электрокардиограмме — прямая линия.
— Все бесполезно, — наконец сказал Виктор Михайлович, заглянув в зрачки больного. — Клиническая смерть трансформировалась в биологическую. Экзитус леталис.
Лицо Виктора Михайловича посерело, поблекло, резко пропечатались морщинки у глаз и рта, нелепыми стали казаться крупные роговые очки. Он подошел к молча стоявшей, словно окаменевшей жене покойного, обнял ее и склонил свою голову на ее плечо.
Удрученный случившимся доктор Эрнест шел вместе с Виктором Михайловичем по коридору отделения, думая о том, как он втягивается в жизнь клиники, приобретая бесценный опыт, и понимая в то же время, что многое, многое еще впереди. Строя свои личные отношения с работой клиники, доктор Эрнест Михайлович с тревогой пытался раскрыть таинственную связь между теоретическими знаниями, приобретенными в институте, и больным человеком.
Шли молча.
— Как видите, коллега, — вдруг сказал Виктор Михайлович, — существует психологический и социальный парадокс, заключающийся в том, что мы, врачи, по призванию и темпераменту человеколюбы, так как постоянно оказываем помощь больным людям, в то же время вынуждены профессионально присутствовать при смерти больных. Эта путаная изнанка нашей работы постоянно дает повод поразмыслить над неоднозначностью человеческой жизни и ответственностью нашей профессии перед больными людьми. Мой вам профессиональный совет — постоянно продирайтесь через печатные строки и клинические наблюдения. В становлении врача одно без другого невозможно.
Затем Виктор Михайлович неожиданно спросил:
— Как вы думаете, должен ли врач каждый раз страдать над своим умирающим больным?
— Не знаю, — помолчав, сказал доктор Эрнест. — Но думаю, что это было бы правильно.
— А я думаю — нет. Больному нужен истинный профессионал, умный, преданный и мужественный товарищ, — резко сказал Виктор Михайлович.
К примеру, Дени Дидро написал произведение «Парадокс актера», в котором, в частности, анализируется профессионализм артиста, который, играя трагическую роль, заставляет плакать почти весь зал, а сам в то же время фиксирует безучастных зрителей.
Виктор Михайлович пригласил доктора Эрнеста к себе в кабинет, где они пили чай с молоком. Пили молча. Вообще у хозяина кабинета было великолепное умение молчать. Среди малознакомых людей он садился обычно в стороне, на отлете, и даже как-то демонстративно молчал, всматриваясь во всех окружающих спокойными, слегка прищуренными глазами. Попивая чай, Эрнест Михайлович уже чувствовал привкус будущей перемены его врачебного мировоззрения. Виктор Михайлович стал не только Учителем, он стал его эрой. Он заложил в нем конец бесформенному времени, и с этого периода началось его летоисчисление, так как абстракции стали по настоящему заполняться профессиональной материей. Постоянная жажда видеть, знать, овладевать своей профессией находила себе выход в памяти и совете с этим человеком. Совет этот мог быть и в прочтении рекомендуемой им литературы, сочетавшей научную глубину с практической страстью. И в дальнейшей жизни, уже после того, как прекратилось общение с Учителем, все, что было интересного, захватывающего, радостного или скорбного, было заключено в переживаниях чтения. И это был лишь намек, легкий ветерок, ничего не значащее обещание, осторожный набросок карандашом или акварелью. Основное — это была память его величию.
События, клинические модели и мысли нагромождались одно на другое. Но время, как всегда, неумолимо. Истекали две недели. Возврат к прошлому беспокоил доктора Эрнеста другой своей стороной, и эти опасения были небезосновательны. Он понимал, что профессиональный опыт не имеет конца, а он только у его начала. Как не заблудиться на этом тяжком пути познания, вдали от специалиста, способного понимать больного биологически и социально, умеющего объединять теорию с практикой и решать крупные клинические задачи? Но свободы выбора не было видно, все предопределено заранее.
Именно в тот заключительный период практики — едва ли не в предпоследний день перед ее окончанием — главный врач попросил Виктора Михайловича проконсультировать больного на дому. Виктор Михайлович хорошо знал этого больного. Обычно домашний осмотр проводился совместно с медицинской сестрой, которая снимала электрокардиограмму. В этот раз Виктор Михайлович предложил поехать с ним и доктору Эрнесту. Больной по фамилии Звенигородский, в прошлом директор овощных и продовольственных магазинов, винного цеха и различных продовольственных складов, красавец и авантюрист. Он прожил бурную и пеструю жизнь. Побывал во многих странах. Имел родственников в Канаде. Сидел в тюрьме, играл в бридж и преферанс, любил охоту, пять раз был женат, болел сифилисом. Несколько месяцев назад, страдающий бронхиальной астмой и ишемической болезнью сердца, осложнившейся мерцанием предсердий, он похоронил последнюю жену и остался в полном одиночестве.
Мы поднялись в лифте на третий этаж и позвонили раз, другой. Дверь отворил сам хозяин и сразу же убежал обратно. Доктор Эрнест успел заметить, что он высокого роста, тучен, одет в замызганную куртку с галунами и голубые подштанники. Его большая четырехкомнатная квартира была обставлена со старомодной роскошью. Высокие зеркала, тяжелые люстры и шторы, картины в золоченых рамах на стенах, ковры на полу, набитые фарфором и хрусталем буфет и сервант. Все дорогое, массивное, рассчитанное на вековую жизнь хозяев этих вещей.
Хозяин квартиры, лет семидесяти пяти, лысый, с бледно-желтым лицом, лежал в спальне на широченной царской кровати. Рядом с ним, прямо на несвежей, усыпанной крошками постели, стояло все, что могло понадобиться больному одинокому человеку. Телефон, справочная книга, бумага с конвертами и ручкой, транзистор «Спидола», тарелки с едой и множество всяких лекарств с аккуратными наклейками: теофедрин, нитроглицерин, валидол, корвалол и т.п. Когда Виктор Михайлович, доктор Эрнест и медицинская сестра вошли в спальню, Звенигородский плакал, уткнувшись головой в подушку.
— Прекратите сейчас же! — резко сказал Виктор Михайлович. — Я привык считать вас человеком с большой буквы!
Звенигородский стих, засопел и повернулся лицом к вошедшим. Час назад ему показалось, что он умирает. Появилось удушье, чувство страха; лекарства не помогали. Поэтому он срочно вызвал Виктора Михайловича, но сейчас ему стало легче.
Виктор Михайлович внимательно осмотрел больного, потом уступил место доктору Эрнесту, а затем медицинская сестра сняла электрокардиограмму. Ничего острого у больного не было обнаружено.
— Вам необходимо пригласить участкового терапевта и наблюдаться у него, — сказал Виктор Михайлович и пошел за своим пальто, которое висело на вешалке.
Звенигородский снова начал плакать. Он схватил за руку доктора Эрнеста и стал просить:
— Не уходите. Я вас прошу, я вас умоляю! Посидите хоть немного, хоть полчаса, — воскликнул больной. — Я один, совсем один в этой ужасной квартире, в этой проклятой жизни… Почему жена умерла раньше меня, ответьте, почему?
Доктор Эрнест смотрел на этого деморализованного, опустившегося и жалкого человека с плохо скрываемой брезгливостью. «Видите ли, он один в этой ужасной квартире! Пустил бы лучше за бесценок студентку, а не держал нас. Наверное, жадный, так и трясется над своим добром, будто заберет его с собой в могилу». Он смотрел на Виктора Михайловича, уже одетого в пальто, ожидая его сигнала освободиться от рук старика и уйти.
— Я боюсь этой тишины, этих громадных комнат, этих лиц на картинах, скрипа половиц. Иногда мне хочется надеть себе петлю на шею, — причитал больной старик. — О горе, я умираю — и опять живу! В конце концов, не моя вина, что я задержался в этом мире!
И вдруг Виктор Михайлович снял пальто, снова повесил на вешалку и сказал:
— Хорошо. Мы побудем у вас. Только поймите, у нас нет времени, и просьба — ни слова о болезнях. Лучше поговорим о чем-нибудь интересном и поучительном из вашей бурной жизни.
Звенигородский слабо улыбнулся, благодарно кивнул и оживился. Предложил деньги, чай и бутерброды. Виктор Михайлович корректно поблагодарил и отказался.
После того как они покинули квартиру Звенигородского, доктор Эрнест не удержался и спросил у Виктора Михайловича, почему он решил задержаться у больного.
— Понимаете ли, коллега, взаимоотношения врача и больного своеобразны, врач всегда оказывает психологическое воздействие на пациента, выступая в роли ведущего. Миссия врача, — продолжил Виктор Михайлович, — заключается в том, что он обязан в любых условиях приносить больному максимум пользы. Мы, врачи, должны смеяться вместе с больными, правда, по-разному, но все же вместе, — образно выразился Учитель. — Более того, врач обязан смотреть на больного как на любимого человека. Беречь его как зеницу ока. Один неосторожный шаг, одно неосторожное слово — и вы потеряете взаимопонимание с ним, — продолжил Виктор Михайлович. — А самое главное, врач — это гуманный человек, то есть он специалист, умеющий переносить гуманизм из области ума в область сердца. А что касается Звенигородского, то хочу вам заметить, что он один из немногих, кто умеет видеть во враче не только специалиста, но и гражданина, хотя такая значимость врача не всеми осознается.
Объективности ради следует сказать, что для Виктора Михайловича было характерно создавать из отечественного гуманизма некую кровоточащую рану, которую он часто бередил. Например, для него не было унижением достоинства подать судно тяжелому больному и забрать его, если рядом не оказывалось санитарки. При опросе больного он не мог не расспрашивать о периоде детства, учебы, производственных отношениях: и как дети? и как дела в семье? и от чего и как умерли родители? и при каких условиях проявилась болезнь или обострение? Порой интеллектуальность опроса больного напоминала беседу Раскольникова и следователя в «Преступлении и наказании». Поучительна эта редкая способность Мастера проникать в суть проблемы и, как бы отрешаясь от себя, сопереживать чужую биографию, чужую жизнь. Правда, он нисколько не заботился об этом. Это выходило у него само собой, так как отражало его образование, интеллект и опыт. То есть таково было органическое свойство его врачебного мышления. Между тем, как это ни странно звучит, некоторые коллеги начисто отрицали незаурядные способности и врачебный талант Виктора Михайловича. Доктору Эрнесту противоположные мнения казались чудовищными, хотя он понимал, что это неотъемлемая часть общественных отношений.
За окном автобуса журчали весенние талые воды, в безоблачном небе пели птицы, из-под снега пробивался ароматный дух земли, наливались соками деревья. Доктор Эрнест возвращался в сельскую больницу. Он был счастлив и удручен в одно и то же время, так как двухнедельная практика стала уже только историей. В действительности ему было ясно, что заглянуть внутрь кузницы, где выковывается врач, все-таки удалось. А это уже профессиональный рост. И такая последовательная четкость позиции придала особый вес его размышлениям и настроению. В будущем профессор Эрнест Михайлович неоднократно любил повторять, что «в истории жизни людей дело рук конкретного человека часто оказывается сильнее обстоятельств».