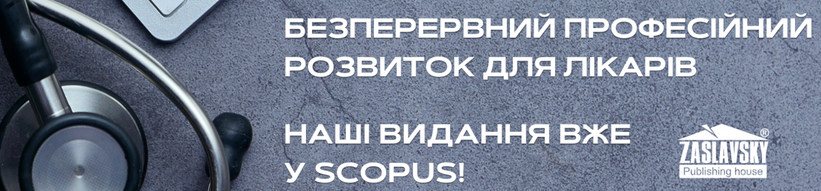Газета «Новости медицины и фармации» 17(340) 2010
Вернуться к номеру
Литература и медицина
Авторы: А.Ф. Яковцева, д.м.н., профессор, И.В. Сорокина, д.м.н., профессор, Н.В. Гольева, д.м.н., профессор, Харьковский национальный медицинский университет, И.И. Яковцева, д.м.н., профессор, Харьковская медицинская академия последипломного образования
Версия для печати
Продолжение. Начало в № 16 (336)
Можно привести немало подобных примеров. Еще в XIX столетии широко и всесторонне образованный врач Р. Робен собрал обширную литературу по этой теме и успешно защитил докторскую диссертацию «Медико-литературная клиника».
Писателей часто и справедливо называют «врачами человеческих душ». Вполне понятно глубокое смятение Л.Н. Толстого, когда жизнь Анны Карениной во время родильной горячки повисла на волоске. Отчетливо ощущается сострадание И.С. Тургенева, беспомощно созерцавшего скованную тяжелым недугом Лукерью («Живые мощи»). А разве Флобер, сын популярного врача, не перенес все внешние проявления отравления мышьяком, описывая смерть госпожи Бовари в своем одноименном романе? «Я не верю в то, — справедливо писал И. Эренбург, — что писатель может равнодушно относиться к своим героям». И в виде иллюстрации он сослался при этом на то, как однажды к Оноре де Бальзаку пришел его приятель и застал писателя сползавшим с кресла; пульс был неровный и слабый. «Скорее за доктором, — закричал приятель, — господин Бальзак умирает!» От крика писатель очнулся и сказал: «Ты ничего не понимаешь, только что умер отец Горио».
Так же трудно представить себе настоящего врача, который мог бы равнодушно относиться к стенаниям больного. «Врачуя публику, — писал А.П. Чехов А.С. Суворину в 1888 г., — я привык видеть людей, которые скоро умрут, и я всегда чувствовал себя как-то странно, когда при мне говорили, улыбались или плакали люди, смерть которых была близка». Совершенно понятно признание одного из героев романа С. Моэма «Луна и грош», доктора Кутра, который «многим объявлял смертный приговор и все же не мог победить ужаса, который его при этом охватывал». Врачебная практика легко могла бы стать сплошным и беспросветным испытанием, если бы она не озарялась непостижимой радостью исцеления пациента.
Врачебное искусство должно включать любые знания, служащие благу человека. Врачеванию надо отдавать себя целиком, без остатка, и с такой страстностью, без которой, как говорил Гегель, ничто великое не совершается. Гиппократ называл медицину искусством еще в те давние времена, когда не было ни филигранной стереотаксической техники, ни сложнейших медицинских приборов, когда распознавание сахарного диабета достигалось лишь тонким муравьиным чутьем.
Прошли столетия, наша наука стала неузнаваемой, но тем не менее практическая медицина и поныне сохраняет присущие ей с рождения элементы искусства. Это не только и не столько искусство, скажем, тончайших микрохирургических операций, сколько искусство задушевного общения врача с пациентом, когда в сердце больного человека пробуждаются вера и надежда. Такое искусство в отрыве от специальных знаний и медицинских навыков легко превращается в низкопробное знахарство. Этого опасался С.П. Боткин: «Научная практическая медицина... не может допускать произвола, иногда... проглядывающего под красивой мантией искусства, медицинского чувства, такта...» И эти предостережения перекликаются с сокровенными раздумьями Л.Н. Толстого о болезни и смерти, о взаимоотношениях врача с больным и, наконец, о буднях врачебного труда. Вероятно, еще не одно поколение врачей будет воспитываться на тех удивительных образцах наблюдательности и величайшей житейской мудрости, которыми так щедро одарил нас Л.Н. Толстой.
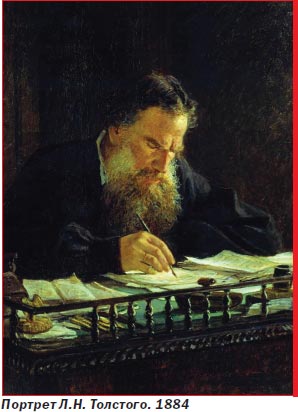 Необходимо заметить, что пытливая наблюдательность — та черта, без которой вообще немыслима практическая врачебная деятельность, была настолько развита у Л.Н. Толстого, что даже такие крупные знатоки психологии больного человека, как Г.А. Захарьин, Н.Ф. Голубов, А.А. Ухтомский, В.М. Бехтерев, Н.Д. Стражеско и другие, не раз обращались к произведениям Л.Н. Толстого в своих научных изысканиях и педагогических раздумьях.
Необходимо заметить, что пытливая наблюдательность — та черта, без которой вообще немыслима практическая врачебная деятельность, была настолько развита у Л.Н. Толстого, что даже такие крупные знатоки психологии больного человека, как Г.А. Захарьин, Н.Ф. Голубов, А.А. Ухтомский, В.М. Бехтерев, Н.Д. Стражеско и другие, не раз обращались к произведениям Л.Н. Толстого в своих научных изысканиях и педагогических раздумьях.
Обладая феноменальной способностью к неторопливому и пристальному изучению окружающего, Л.Н. Толстой и сейчас продолжает удивлять читателя-врача той удивительной глубиной восприятия и обобщений болезненных состояний человека, перед которой порою меркнет даже специальная медицинская литература. Так, с поразительной реалистичностью Толстой изобразил клиническую картину инсульта. Не вникая в чисто медицинские детали, автор правдиво и точно описал внешние проявления этой болезни со всеми ее нюансами, в таком виде, в каком она воспринималась окружающими больного людьми, встревоженными и испуганными развившимся несчастьем.
«Навстречу ей продвигалась большая толпа ополченцев и дворовых, и в середине этой толпы несколько людей под руки волокли маленького старичка в мундире и орденах. Княжна Марья подбежала к нему, и в игре мелкими кругами света, падавшего сквозь тень липовой аллеи, не могла дать себе отчета в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидела, было то, что прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на тот диван, которого он так боялся последнее время» («Война и мир»).
Удивительно достоверна психологическая деталь боязни своей постели, которая нередко возникает у людей, страдающих патологией сосудов головного мозга. Это описание поразило глубиной своего проникновения в психологию старости даже самого И.И. Мечникова, привело в смятение такого крупного психоневролога, как профессор В.М. Бехтерев, встревожило академика И.П. Павлова, который на склоне лет также страшился своей постели, ссылаясь при этом на старика Болконского.
«Старый князь был в беспамятстве, он лежал, как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что-то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное — это то, что он страдал и чувствовал потребность еще выразить что-то».
В своих произведениях Толстой неоднократно воспроизводит гнетущую картину тягостного угасания человеческой жизни от кровоизлияния в мозг:
«Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что, покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое...
Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук…
Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели».
Это предельно сжатое описание инсульта не имеет себе равных в художественной литературе.
С не меньшей проницательностью художник изобразил в ряде своих произведений то медленное угасание, то постепенное умирание, которое некогда свойственно было больным, страдавшим туберкулезом легких. Ведь дело происходило в те давние времена, когда медицина не располагала еще эффективными средствами лечения туберкулеза:
«Прошли еще мучительные три дня, больной был все в том же положении. Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел его: и лакеи гостиницы, и хозяин ее, и все постояльцы, и доктор, и Марья Николаевна, и Левин, и Кити. Только один больной не выражал этого чувства, а напротив, сердился за то, что не привезли доктора, и продолжал принимать лекарство и говорил о жизни... Пока священник читал отходную, умирающий не показывал никаких признаков жизни; глаза были закрыты...
— Кончился, — сказал священник и хотел отойти, но вдруг слипшиеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины груди определенно резкие звуки:
— Не совсем... Скоро.
И через минуту лицо просветлело, под усами выступила улыбка, и собравшиеся женщины озабоченно принялись убирать покойника».
Писатель тяжело переживал гибель своих героев. По воспоминаниям его жены, С.А. Толстой, в период работы над главами, где описана смерть князя Андрея, Лев Николаевич однажды вышел из своего кабинета весь в слезах. На вопрос о том, что случилось, он ответил, махнув рукой, что только что умер князь Болконский.
Когда читаешь описание смерти героев Толстого, приходит яркое понимание ценности человеческой жизни, бесценности такого творения природы, как человек. Волей-неволей появляются мысли о кощунственности войн, о немыслимости возможности истребления себе подобных.
Вот как описана смерть мужика в романе «Анна Каренина»:
«— Бросился! Задавило! — слышалось между проходившими.
— Вот смерть-то ужасная! — сказал какой-то господин, проходя мимо. — Говорят, разорвало на два куска.
— Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная, — заметил другой...
Каренина села в карету, и Степан Аркадьевич с удивлением увидел, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.
— Что с тобой, Анна? — спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.
— Дурное предзнаменование, — сказала она».
В последних главах этого романа еще более жутко описана суицидальная смерть самой Анны:
«И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле проходящего мимо нее поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами и ту минуту, когда середина эта будет против нее. «Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, — туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя».
...Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь ее предстала на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с ней, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что сделала. — «Где я? Что я делаю? Зачем?». Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы.
...И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».
Гениальное умение Л.Н. Толстого проникать в тайники духовной жизни человека в значительной степени проявилось в его неповторимых описаниях болезни и смерти своих героев, где он не только достиг высочайших вершин реалистического искусства, но и создал совершенно новые для своего времени представления о взаимоотношениях врача и больного. Гениальный писатель впервые в классической русской литературе всесторонне и глубоко осветил эти интереснейшие и животрепещущие вопросы. К ним Л.Н. Толстой обращался неоднократно, но наиболее полно и проникновенно он изложил их в романах «Война и мир» и «Анна Каренина».
Н.Д. Стражеско неоднократно утверждал, что каждый человек болеет и выздоравливает на свой лад. Подчеркивая это, он писал, что «старые врачи хорошо это знали, но мысль об этом наиболее выпукло и красиво высказал не врач, а гениальный наш писатель Л.Н. Толстой в своем непревзойденном романе «Война и мир»:
«Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, и по-немецки, и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней, но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, не известную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, сердца, нервов и т.д., записанную в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений страданий этих органов».
Таким образом, Л.Н. Толстой задолго до утверждения современных взглядов на целостность человеческого организма, на роль нервной системы в процессах формирования, протекания болезни и выздоровления дал четкое обоснование своих представлений, намного опередивших медицинскую науку своего времени. Писатель сумел гениально предвосхитить современные представления физиологии, выраженные в известной формуле И.Р. Мейера: «В каждом физиологическом и патологическом процессе играют роль одновременно нервы и кровь, и жизненные явления можно сравнить с удивительной музыкой, полной прекрасных созвучий и потрясающих диссонансов».
Многое из того, что было еще совершенно недоступно пониманию врачей — современников Л.Н. Толстого, четко и ясно осознавалось писателем. Так, например, задолго до разработки учения о парабиозе Л.Н. Толстой показал, как могущественна доминанта в своем господствовании над текущими раздражениями. Так, Пьер Безухов, тащившийся на изъязвленных босых ногах по холодной октябрьской грязи в числе пленных за французской армией, не замечал того, что представлялось ему ужасным впоследствии: «Только теперь Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму». Этими описаниями Л.Н. Толстого восторгался основоположник учения о парабиозе А.А. Ухтомский.
Незадолго до кончины, находясь в состоянии тяжелейшего, окончательно приковавшего его к постели недуга и сознавая неизбежность приближающейся смерти, И.С. Тургенев написал из Буживаля Л.Н. Толстому: «Долго Вам не писал, ибо был и есть, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу — и думать об этом нечего. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, и чтобы выразить свою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует! Я же человек конченный — доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Ни ходить, ни есть, ни спать — да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших, не могу больше, устал».
Меньше чем через два месяца после этого письма И.С. Тургенева не стало.
Медицинские темы сугубо эпизодичны и занимают небольшое место в литературном наследии И.С. Тургенева. Главное в том, что профессиональные чаяния врача, характер его взаимоотношений с больными, воспроизведенные таким мастером, как Тургенев, несравненно отчетливее воспринимаются. В этом особая ценность для нас тех произведений И.С. Тургенева, в которых в канву повествования входят вопросы врачебной деятельности. Его романом «Отцы и дети» восхищался А.П. Чехов.
«Боже мой! — восклицал он в письме к А.С. Сурину. — Что за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи! Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел и было такое чувство, как будто я заразился от него».
«Старина, — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.
Василий Иванович пошатнулся, словно кто-то по ногам его ударил.
— Евгений! — пролепетал он. — Что ты это! Бог с тобой! Ты простудился...
— Полно, — не спеша перебил его Базаров. — Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения ты сам знаешь.
— Где же признаки... заражения, Евгений? Помилуй!
— А это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна».
Нет никакой необходимости в специальных медицинских знаниях, чтобы представить себе всю трагичность свершившегося, оценить безнадежность положения больного.
«Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить, — шептал он, сжимая кулаки, — что за вздор!». И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?»... Базарову уже не суждено было проснуться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер.
Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящего кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василия Ивановича обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что возропщу, — хрипло кричал он, с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, — и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба пали ниц. «Так, — рассказывала потом в людской Анфисушка, — рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»
Глубочайшее проникновение в судьбы героев своих произведений нашло отражение во многих других эпизодах, связанных с болезнью и смертью героев.
В рассказе «Живые мощи» И.С. Тургенев так описывает болезнь героини: «Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо, но что это было такое?
Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки, тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка...
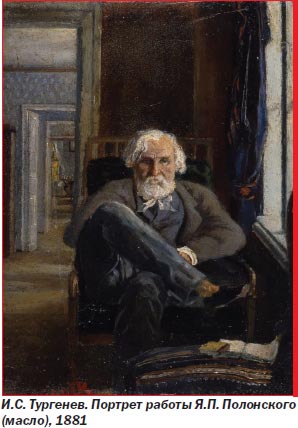 ...С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — полно и ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка... лекарям меня показывала и в больницу посылала. Однако облегчения мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня такая» (И.С. Тургенев, «Живые мощи»).
...С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — полно и ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка... лекарям меня показывала и в больницу посылала. Однако облегчения мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня такая» (И.С. Тургенев, «Живые мощи»).
Даже теперь, спустя много лет после опубликования этого рассказа, тайна болезни Лукерьи продолжает волновать читателя-врача.
В течение многих лет было принято считать, что героиня рассказа «Живые мощи» Лукерья страдала системной недостаточностью надпочечников, приведшей и к бронзовой краске кожи, и к истощению, и к той тяжелой адинамии, которая лишила больную возможности передвигаться. Это мастерское описание болезни — не вымысел художника, не компиляция, созданная из медицинских описаний аддисоновой болезни (которые, кстати, впервые появились лишь в конце 50-х годов XIX столетия и вряд ли могли быть известны Тургеневу). В одном из своих писем к Л. Пичу Иван Сергеевич писал о рассказе «Живые мощи», что «все это истинное происшествие».
Прошло немало времени, но интерес медиков к этому рассказу великого русского классика не угасает и поныне. Доктора Е.М. Тареев и Н.Г. Гусева, например, считают, что «девушка с жестокой каменной неподвижностью» из «Живых мощей» страдала склеродермией. Профессор И.Я. Сигидин считает, что многолетнее течение заболевания Лукерьи исключает аддисонову болезнь, которая в середине девятнадцатого столетия вряд ли могла бы длиться столь долгий срок без не существовавших тогда методов специфической гормональной терапии. Он также приходит к заключению, что героиня рассказа болела склеродермией.
В активном врачебном сострадании не последнее место принадлежит отвлечению внимания больного от его недомоганий. Зачастую таким путем удается подавить или уменьшить тяжкие переживания страдающего человека. В практической медицине старых земских врачей существовало правило: не начинать обследование больного с детального расспроса о жалобах, его тревожащих. С помощью такого простого приема иногда удавалось не только отвлечь внимание больного от его болезни, но как бы невзначай вселить в него надежду... Страждущий человек зачастую сам ищет, а с помощью врача нередко и находит утешение в том, что даже в его несчастии имеется какой-то просвет. Следовательно, не все еще в жизни потеряно!
Изучение творческого наследия И.С. Тургенева, его лирических раздумий о жизни и смерти, о болезнях и врачевании этих болезней помогает врачу глубже осмыслить свою трудную, многогранную и почетную роль.
Говоря об отражении медицины в произведениях великих русских классиков, нельзя не коснуться творчества Антона Павловича Чехова.
«А.П. Чехов был не только классиком мировой литературы, но и врачом. Научный метод, выработанный Чеховым-врачом, позволил Чехову-писателю, — пишет Е.Б. Мебе (1961), — создать исключительно точную и яркую прозу, в которой слились воедино художественные и научные элементы. А.П. Чехов как прогрессивный врач сумел в ряде повестей и рассказов описать внутренний мир и психологию больного, психические страдания и «душевную боль» человека».
Выражение глаз тяжелобольных позволяет опытному врачу, иногда только на основании этого взгляда, поставить прогноз заболевания. Короткой фразой, одним мазком Чехов-художник записал наблюдение Чехова-врача.
Продолжение следует
Полностью ознакомиться с материалами можно, приобретя книгу «Медицина и искусство» А. Яковцевой, И. Сорокиной, И. Яковцевой, Н. Гольевой