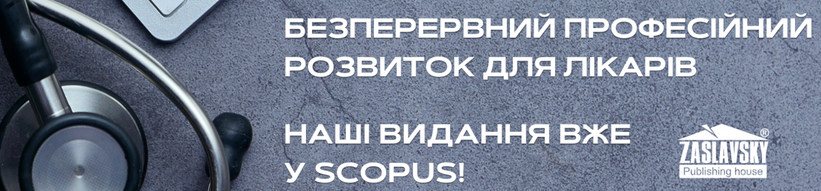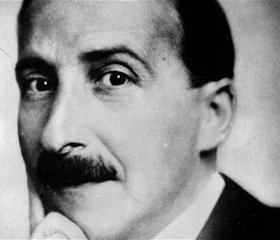Газета «Новости медицины и фармации» 20-22, 2012
Вернуться к номеру
Жизнь и смерть Стефана Цвейга глазами врача
Разделы: История медицины
Версия для печати
/!mir/26/26.jpg)
Продолжение. Начало в № 19, 2012
Не раз приходилось слышать о «писательском литературоведении», например, так написаны эссе Марины Цветаевой и Анны Ахматовой о Пушкине, романы Юрия Тынянова. «Писательское литературоведение» присуще творческому методу Стефана Цвейга: он не оперирует голыми фактами, превалирует проникновенная эмоциональная оценка, что в сочетании с несомненной достоверностью воссоздает зримо, чувственно описываемых героев, призывает их к диалогу.
Цвейга считали счастливчиком, что и было в действительности до определенного момента. Он любим женщинами, читателями, популярен, его охотно печатают большими тиражами. Книги не залеживаются в магазинах. В книге «Вчерашний мир» подчеркивается ощущение им гармоничности в мире, «золотой век надежности», царивший в умах просвещенной европейской молодежи. До определенного времени он не чувствовал притеснений по национальному признаку. Но тем не менее считал себя интернационалистом, а не космополитом. Следует думать, что дело Дрейфуса продолжало будоражить мысль, как бы этого не хотелось.
Писатель воспринимал Европу как единое целое, вернее, хотел объединения стран континента в единое государство. Возможно, такие мысли в тот период привлекали молодых интеллектуалов, например, о том же грезил Конан Дойль. Разразившаяся Первая мировая война положила конец мечте о дружелюбии, европейские страны вступили в жесткую бескомпромиссную схватку, не зная, что это лишь прелюдия. Цвейг сблизился с Роменом Ролланом, проникся пацифистской настроенностью. В числе многих демократически настроенных деятелей культуры побывал в Советском Союзе, с большим уважением отнесся к Максиму Горькому, благодаря которому вышло многотомное издание Цвейга на русском языке. Дружески общался с Константином Фединым, Владимиром Лидиным и другими. Не став апологетом страны «победившего социализма», отмечал, говоря об интеллигенции, «тягостные условия существования в более тесных рамках пространственной и духовной свобод», но открыто не выступил с осуждением, очевидно, не желая обострять и без того сложное положение писателей и других представителей интеллигенции в СССР.
Более откровенно написал о своих впечатлениях Ромену Роллану, другу Советской России на определенном этапе: «Так, в вашей России Зиновьев, Каменев, ветераны революции, первые соратники Ленина, расстреляны как бешеные собаки, — повторяется то, что сделал Кальвин, когда отправил на костер Сервета изза различия в толковании Священного Писания. Как у Гитлера, как у Робеспьера: идейные разногласия именуются «заговором»; разве не было достаточно применить ссылку?»
Аншлюс Австрии, распад «незыблемой, вечной» АвстроВенгерской империи привели Стефана Цвейга к затяжному тяжелому душевному кризису. Впрочем, приступы угнетенного состояния, растерянности, потребность в поддержке наблюдались и раньше (см. выше). Показательна в этом плане переписка с Фридерикой. 24 ноября 1921 г.: «…Мое дорогое, сладкое, любимое дитя! Позволь прижать тебя к моему сердцу, тысячу добрых пожеланий. Пусть все заботы останутся далеко, а Господь пошлет тебе радость, бодрость и хорошую работу, чистое сердце — лишь оно источник всех наших счастливых радостей…»
В ответ на нежное письмо любящего человека Цвейг 26 ноября 1921 года замечает: «Почему ты своим поздравлением сделала меня старше раньше времени на 2 дня? Разве 40 это недостаточно?» Для него важно сознавать: «Я все еще хорошо законсервированный тридцатилетний. Еще целых 48 часов». В приведенных строчках ощущается не ироническое отношение к событию, а искренняя озабоченность.
/!mir/26/26_2.jpg)
Между тем жизнь продолжается, наполненная разными событиями, преимущественно приятными — путешествиями, встречами. В 1925 году после успешного вечера с читателями он неожиданно, немотивированно внешне заканчивает письмо словами: «…Все же тебе лучше, чем твоему Стефчи». Почему лучше, что плохого у Цвейга? Он искренен с женой, значит, таково мироощущение, чтото гложет!
Приближается 50летие. Цвейг подавлен, ощущает дискомфорт. Другу, Виктору Фляшеру, пишет: «Я не боюсь ничего — провала, забвения, утраты денег, даже смерти. Но я боюсь болезней, старости и зависимости» (курсив мой. — И.Л.). Как автор очерка о Льве Толстом, он вспоминает душевный кризис любимого писателя и, возможно, проецирует на себя. Известно из литературы, что у Льва Николаевича был ранний климакс, много изменивший в его жизни и творчестве. После этого появилась «Крейцерова соната». Цвейгу страшно. Неизвестно, были ли реальные основания для тревог, это не важно, они были в его сознании. Несколько строк из очерка о Толстом, по мнению Наталии Боголюбовой (2004), отражающие состояние не только Льва Николаевича, но и автора: «Вдруг в одну ночь все потеряло смысл и значение. Привычный к работе, он возненавидел работу. Жена стала ему чужда, дети безразличны… Однажды он поспешно поднялся по лестнице и запер в шкаф свое охотничье ружье, чтобы не направить дуло в себя. Время от времени он стонет, точно от невыразимой боли. Иногда рыдает, как ребенок, запертый в темной комнате». Блестящее описание удрученного состояния, когда ничего не радует, ни к чему не стремишься. Глубочайшее проникновение в душевный внутренний мир Толстого!
Не радовала политическая обстановка. Одним из ключевых моментов в последующих событиях явился обыск неизвестными в Зальцбургском доме писателя. Стефан Цвейг уехал из Австрии в Лондон, как думалось, временно, но случилось, навсегда. Жена оставалась в Зальцбурге, часто приезжала к мужу. Началась жизнь на два дома. Почему так произошло? Почему они не уехали вместе? Возможно, сложно было решать многочисленные проблемы, организовать учебу дочерей? У меня нет ответа. Отношения между супругами в это время казались устойчивыми, более того, теплыми…
Цвейг много писал, печатался. Дружил с Гербертом Уэльсом, Бернардом Шоу и другими представителями английской элиты. Его хорошо принимали, охотно общались. Стал гражданином Великобритании. Но Стефан грустил, и было изза чего: Гитлер набирал силу, привычный уклад рушился, на горизонте смутно, неосознанно, но маячил геноцид. Стефан, возможно, впервые ощутил себя евреем, а значит — изгоем. 10 мая 1933 года книги писателя сожгли в Вене на костре. В эмиграции он узнал о смерти матери. Когда ночью ей понадобилась медицинская помощь, приехавшая медсестра отказалась остаться до утра, сославшись на только что введенные в Австрии «Нюрнбергские законы», согласно которым арийка младше 40 лет не могла ночевать в одном доме с евреем любого возраста.
Между тем в воспоминаниях «Вчерашний мир» писатель подчеркивает: «В последние годы венское еврейство, как испанское перед таким же трагическим исходом, стало творчески плодоносным». Последнее относилось и лично к автору. Он много трудился, что было неизменной потребностью и отвлекало от удручающих новостей.
Скапливалось много работы, с которой Фридерика, приезжая, с трудом справлялась. В этот период и к ней пришла писательская слава. Она была очень занята. По настоянию жены в помощь писателю пригласили молодую стенографистку — меланхоличную, некрасивую, нескладную, болезненную Лотту Альтерман. Фридерике в голову не приходило, что в этом рабочем союзе таится опасность их счастливому 25-летнему браку.
/!mir/26/26_3.jpg)
На фоне политических бед, по словам Фридерики, «его политический пессимизм безграничен», развивалась личная драма. Цвейг все больше ощущал старение, чтото менялось. Ему перевалило за 50! Еще раньше он не хотел отмечать 50летие, считая возраст рубежным, началом обратного отсчета или спуском вниз.
До недавнего времени мало говорили о мужском старении, естественном инволюционном процессе. Однако биологические законы незыблемы, можно отдалить тем или иным способом видимые проявления старения, но природа неумолима. Проявляются в некоторых случаях судорожные попытки повернуть время вспять, игнорировать накапливающиеся нарушения, не упустить последние возможности! Конечно, ничего фатального при этом, как правило, не происходит, жизнь продолжается, принося разнообразные ощущения и удовольствия. Но не таков Цвейг. Он неотступно думает, полон тревог и удручающих мыслей о грядущем. Об этом есть много свидетельств в письмах разным корреспондентам. Немаловажно и ощущение им «безбытности», отсутствия дома, «человека без страны».
Эмиграция — многоплановый и сложный процесс, требующий немало психических усилий. Каждый прошедший путь вживания в новые условия знает, как это сложно, по своему опыту. Чего только стоит монотонный гул улицы, позднее разделяющийся на фразы и слова! Поиск работы, самоидентификации, сохранение или потеря социального статуса, взаимоотношения с детьми. Помню разговор с коллегой по курсам изучения языка, которая говорила мне: «Как вы, врач, можете грустить, работая по специальности?» Эмиграция Цвейга объективно не отличалась невзгодами: в Англии, Америке, Уругвае, Аргентине и Бразилии он был обласкан, с восторгом встречен. Книги издавались и раскупались. Но писать не хотелось… Тонус падал. Вспомним Набокова, до конца дней жившего в гостиницах. Все та же, скорее психологическая, «бездомность».
/!mir/27/27.jpg)
Думается, в череде сложностей «безбытности» трагедией явился развод с Фридерикой — женщиной волевой, умной, сильной. Вялая, болезненная, меланхоличная, безличностная Лотта могла умереть с мужем, но не сохранить ему жизнь. Но и для развода были причины.
«Твое выросшее чувство самостоятельности слишком велико. Не то чтобы ты не имела на это права! Но для меня это уже было слишком». Стареющий Цвейг безотчетно искал когото слабого и зависимого, чтобы выглядеть сильным. Разрыв с Фридерикой дался обоим мучительно, длился несколько лет. Уже после официального развода подавленный Стефан просил Фридерику послать телеграмму адвокату и приостановить дело. Телеграмму послали, но адвокат оказался в отпуске. Они еще несколько раз возвращались друг к другу, но была и Лотта… Бывшие супруги регулярно переписывались, каждые 2 дня Фридерика получала письма, мыслями, душой он оставался с ней. Прозвучала и неожиданная фраза в одном из писем: «Не думай только, что я еще любовник». В этом прочитывается сохраняющаяся потребность понять, что произошло, и боязнь оказаться смешным. Цвейг помог Фридерике с детьми приехать в Америку, встречался с нею, хотел втроем поехать на отдых. Он метался. Депрессия не проходила. В письме Фридерике от 20 ноября 1941 г. он грустно констатирует, что война будет длиться долго и предстоит оставаться путешествующим гостем. Подобные мысли прозвучали и в обращенном к писателю Роже Мартен дю Гару письме: «Мы в нашем возрасте всего лишь зрители в большом спектакле, а правильнее — трагедии, где главную роль играют другие, более молодые. А наша состоит в том, чтобы спокойно и достойно исчезнуть». Положение в Европе не радовало, воспринималось как крушение мировой цивилизации и превратилось в личную драму. Тема войны присутствует постоянно в разговорах с друзьями.
Приближалось 60летие. «Шестьдесят — я думаю, этого будет достаточно. Мир, в котором мы жили, невозвратим. А на то, что придет, мы уже никак не сможем повлиять. Наше слово не будут понимать ни на одном языке. Какой смысл жить дальше, как собственная тень?» Йохам Маас приводит слова Лотты: «Он не в хорошем состоянии. Мне страшно». Маас предполагает, что Цвейгом в числе прочего владел страх наступающей старости. Он, как и Ромен Гари, не умел и не хотел стареть.
Последние пару лет писатель метался между США и Бразилией, в которой чувствовал себя лучше. Им владела «охота к перемене мест» как проявление душевного беспокойства.
Закончил «Вчерашний мир», особую книгу воспоминаний, в которой о себе ничего не написал, будучи человеком закрытым и абсолютно свободным, не терпящим ни малейшего покушения на самостоятельность. «Писем приходит все меньше, у всех свои заботы. Пишут неохотно, если нет ничего особенно важного. Да и что в нашей маленькой урезанной жизни может быть важнее мировых событий» (4 февраля 1942 г., из письма Фридерике). До роковых событий оставалось 19 дней.
Последние письма Цвейга цитирую по публикации в «Литературной газете» времен А. Чайковского. Я нашла вырезку из газеты в книге, читанной когдато отцом. В письмах ощущается глубокий душевный кризис писателя. Звучат боль за судьбы Европы, ненависть к нацизму, отчаяние, усталость, скорбь от вынужденной жизни вдали от родины. 17 сентября 1941 г.: «Новости из Европы ужасные. Это будет зима небывалого страха, какого мир еще никогда не знал…Мне бы только немного спокойствия, а в работе недостатка не будет».
27 октября 1941 г.: «…Ужас, который у меня вызывают нынешние события, возрастает до бесконечности. Мы только на пороге войны, которая по настоящему начнется с вмешательством нейтральных последних держав, а затем наступят хаотические послевоенные годы… К тому же еще эта мысль, что никогда уже не будет ни дома, ни угла, ни издателя, что не смогу больше помогать своим друзьям — никому!.. До сих пор я всегда говорил себе: продержаться всю войну, потом снова начать… Эта война уничтожает все, что создано предшествующим поколением…»
20 января 1942 г.: «… Я все больше и больше уверен, что никогда уже больше не увижу своего дома и что везде буду временным постояльцем… Нам остается лишь уйти, тихо и достойно».
Совершенно очевидно, что в эти месяцы Цвейг мечется между естественным желанием жить и невозможностью продолжать в предлагаемых условиях уничтожения то, что составляло смысл и ценность жизни.
22 февраля 1942 г. Фридерика получает последнее письмо: «Дорогая Фридерика! Когда ты получишь это письмо, мне уже будет лучше. Ты видела меня в Оссининге и знаешь, что после периода спокойствия моя депрессия стала более острой. Я так страдал, что не мог больше сосредоточиться. И потом, эта уверенность, что война продлится годы, прежде чем мы сможем вернуться к себе домой, эта уверенность действовала на меня совершенно удручающе… У тебя есть дети и, следовательно, долг перед ними. У тебя широкие интересы и еще много сил. Я уверен, что ты увидишь лучшие времена и что ты поймешь, почему я, с моей ипохондрией, не мог дольше ждать, и одобришь меня.
…Горячие приветы твоим детям, и не жалей меня… Стефан.
Шлю тебе самые добрые пожелания. Будь мужественной. Ты знаешь, что я спокоен и счастлив».
18.02.1942 г. в письме издателю Когану: «…Вы знаете, какую усталость от жизни испытывал я с тех пор, как потерял свою родину, Австрию, и не мог обрести истинную жизнь в работе, живя кочевником и чувствуя, что старею — больше от внутренних страданий, чем от возраста (Цвейгу был 61 год. — Прим. авт.). Не жалейте меня, моя жизнь уже давно уничтожена, и я счастлив, что смогу уйти из мира, ставшего жестоким и безумным».
23 февраля 1942 года рядом с телом найдена записка: «Не трогать! Все эти рукописи (большей частью незаконченные) должны быть вручены Абрао Когану, которого я просил сохранить их и дать на просмотр Виктору Ватовскому. Стефан Цвейг». На столе лежало несколько запечатанных конвертов и отдельно — письмо для передачи городским властям: «Я ухожу добровольно в твердом уме и памяти, но прежде хочу исполнить последний долг — выразить свою глубокую благодарность прекрасной стране, предоставившей для меня и для моей работы столь гостеприимное убежище. С каждым днем я все больше любил эту страну и нигде не смог бы лучше построить заново свою жизнь после того, как мир моего родного языка для меня погиб, а Европа — моя духовная родина — истребила сама себя. Но когда тебе столько лет, нужно иметь много сил, чтобы начать все сызнова. А мои силы за многие годы бесприютных странствий иссякли. Поэтому я счел правильным вовремя, честно прекратить эту жизнь, в которой самой высокой радостью был для меня духовный труд и наивысшим благом — личная свобода.
Всем моим друзьям привет! Пусть они увидят рассвет после долгой ночи. У меня не хватило терпения, и я ухожу первым» (Русское издание. — 2009. — № 1).
«Следует соблюдать почтение к мертвым!» (Диего Гари).
Эрих Мария Ремарк написал о трагедии в романе «Тени в раю»: «Если бы в тот вечер в Бразилии, когда Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубийством, они могли бы излить комунибудь душу хотя бы по телефону, несчастья, возможно, не произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей».
Природа жестко охраняет безусловные рефлексы, к чему относится и стремление жить. Но тем не менее случаи самовольного ухода из жизни встречаются и в животном мире, например массовое самоуничтожение китов. Известно увеличение самоубийств в переходные периоды истории. Так, за 12 лет гитлеровского правления немецкоязычная литература лишилась многих прекрасных писателей, если говорить об этой группе.
Существует расхожее мнение, что трагический финал можно предотвратить. Далеко не всегда. Во многих психиатрических лечебницах существуют отделения для потенциальных самоубийц, для тех, кто пытался уйти из жизни. Эффективность и успешность усилий зависят от многих факторов, в первую очередь в случае перемен к лучшему, достижения целей.
В принятии Цвейгом рокового решения соединилось много причин — рецидивирующая депрессия, эмиграционный стресс, климакс и связанная с этим боязнь старческой немощи. И совершенно не важно, верно ли писатель оценивал происходящее — он так чувствовал!
Ромену Роллану Цвейг казался сильным, уверенным в своем существовании, которое умел оградить от всех опасностей. Так же думал о Ромене Гари сын Диего… Оценки не всегда верны.
Возможно, умной, волевой Фридерике удалось бы, как в прежние годы, вывести мужа из тревожного состояния. Но с ним в последние дни была слабая, меланхоличная Лотта… Она могла уйти с мужем, но не сохранить его!
/!mir/27/27_2.jpg)
Не всегда удается проникнуть во внутренний мир даже близкого человека. Не всегда вмешательство является уместным и эффективным.
22 февраля 1942 г. Стефан Цвейг ушел из жизни. Ушел… и остался!